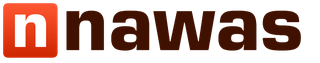Феномен женской поэзии серебряного века. А. Ахматова и М. Цветаева. Два поэта — две женщины — две трагедии У ахматовой и цветаевой были зеленые
Мне кажется, что Марине Ивановне очень не хватало в жизни такой вот влюбленности, почитания и преклонения, которые выпали на долю Анны Андреевны и в которых, быть может, в той или иной степени нуждается каждый поэт. Когда Лиза Тараховская, прочтя в Голицыно «Повесть о Сонечке», сказала Марине Ивановне, что ей представляется нескромным писать о преклонении и даже влюбленности Голлидэй, то — как я уже рассказывала — Марина Ивановна ответила: «Я имею на это полное право, я этого заслуживаю». Да, она этого заслуживала... И сама она умела преклоняться перед талантом и в молодости со всей своей безмерностью была влюблена в Ахматову. Зимой 1916 года она ездила в Петербург в надежде застать там Ахматову и познакомиться с нею, но Ахматова в это время хворала, жила в Царском Селе, и Марина Ивановна, читая петербуржцам свои стихи, читала так, «как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен как прямой провод к Ахматовой...»
И позже в письме к Анне Андреевне: «На днях буду читать о Вас — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому! Впрочем, все, что я имею сказать, — осанна!»
И — посылая книги Ахматовой в Петербург на подпись: «Не думайте, что я ищу автографов, — сколько надписанных книг я раздарила! — Ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму под подушку!» Ахматова принимает все как должное и благосклонно надписывает ей свои книги, но встретятся они только в 1941 году в Москве, доживающей, дотягивающей последние предвоенные дни...
Но еще до этого, до встречи, еще в октябре 1940 года в руки Марины Ивановны попадет последняя книга стихов Ахматовой, изданная в 1940 году, и попадет в тот момент, когда она приступит к составлению своей собственной книги для Гослитиздата. Быть может, даже кто-то дал ей специально книгу Ахматовой, чтобы уверить ее, что книга чистой лирики все же может быть издана. Марина Ивановна записала тогда в своей тетради:
«Нынче, 3-го, наконец, принимаюсь за составление книги...
Да, вчера прочла — перечла — почти всю книгу Ахматовой и — старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы; сходящие (и сводящие) на нет. Испорчено стихотворение о жене Лота. Нужно было дать либо себя — ею, либо ее — собою, но — не двух (тогда была бы одна: она).
...Но сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.
Такая строка (формула) должна была даться в именительном падеже, а не в винительном. И что значит: сердце мое никогда не забудет... — кому до этого дело? — важно, чтобы мы не забыли, в наших очах осталась —
Отдавшая жизнь за единственный взгляд...
Ну, ладно...
Просто, был 1916 год, и у меня было безмерное сердце, и была Александровская Слобода, и была малина (чудная рифма — Марина), и была книжка Ахматовой... Была сначала любовь, потом — стихи...
А сейчас: я — и книга.
А хорошие были строки: ...Непоправимо-белая страница... Но что она делала: с 1914 г. по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть «непоправимо-белая страница...»
Но чего же ждала Марина Ивановна от книги Ахматовой? Ведь она сама в своей блистательной статье «Поэты с историей и поэты без истории» писала о том, что есть поэты с развитием и есть поэты без развития, есть поэты с историей и есть поэты без истории, и себя причисляла к первым — поэтам с развитием, поэтам с историей, потому и проделала столь гигантский путь от «Вечернего альбома» до той Цветаевой, которой она стала теперь. А Ахматову она считала поэтом без истории, без развития, чистым лириком; такие поэты, по определению Марины Цветаевой, рождаются «с готовой душой» — они уже с самого начала своего творческого пути выявляют себя целиком и полностью и в нескольких строках дают как бы «формулу всей жизни»...
Когда-то, полемизируя с теми, кто упрекал Ахматову, что та писала: «Все о себе, все о любви», Марина Ивановна возражала: «Да, о себе, о любви — и еще — изумительно — о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых глазах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном в Песне Песней, о воздухе, «подарке божьем»... Какой трудный и соблазнительный подарок поэтам — Анна Ахматова!..»
И потом, как могла подумать Марина Ивановна, что, изданная в 1940 году, книга Ахматовой может являть собой итог пути поэта? Как вообще в те времена поэт мог предстать перед читателем таким, каким он был на самом деле?!
Внутри себя! Эта книга и есть «непоправимо-белая страница»...
Внутри себя писала в эти, последние, годы своей жизни сама Марина Ивановна! Ахматова же о 1940-м сказала: «Мой самый урожайный год!» И о ночах, проведенных у кирпичной красной тюремной стены, написала уже в те годы Ахматова: «Как трехсотая, с передачею, под Крестами будешь стоять...»
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.
Но, верша свой скорый и суровый суд над книгой Ахматовой, Марина Ивановна все же не теряет интереса к автору и желания встретиться с нею и просит Бориса Леонидовича устроить их встречу, когда Ахматова будет в Москве. И встреча эта происходит 7 июня 1941 г. на Большой Ордынке в доме 17, в квартире 13 у Ардовых, в крохотной комнатушке, столько раз уже описанной в мемуарах. По тексту Али, записавшей все со слов Анны Андреевны в 1957 году, та говорила:
«Марина Ивановна была у меня, вот здесь, в этой самой комнате, сидела вот здесь, на этом же самом месте, где Вы сейчас сидите. Познакомились мы до войны. Она передала Борису Леонидовичу, что хочет со мной повидаться, когда я буду в Москве, и вот я приехала из Ленинграда, узнала от Б. Л., что М. И. здесь, дала ему для нее свой телефон, просила ее позвонить, когда она будет свободна. Но она все не звонила, и тогда я сама позвонила ей, т. к. приезжала в Москву ненадолго и скоро должна была уже уехать. М. И. была дома. Говорила она со мной как-то холодно и неохотно — потом я узнала, что, во-первых, она не любит говорить по телефону — «не умеет», а во-вторых, была уверена, что все разговоры подслушиваются. Она сказала мне, что, к сожалению, не может пригласить меня к себе, т. к. у нее очень тесно, или вообще что-то неладно с квартирой, а захотела приехать ко мне. Я должна была очень подробно объяснить ей, где я живу, т. к. М. И. плохо ориентировалась, — и рассказать ей, как до меня доехать, причем М. И. меня предупредила, что на такси, автобусах и троллейбусах она ездить не может, а может только пешком, на метро или на трамвае. И вот она приехала. Мы как-то очень хорошо встретились, не приглядываясь друг к другу, друг друга не разгадывая, а просто. М. И. много мне рассказывала про свой приезд в СССР, про Вас и Вашего отца, про все то, что произошло. Я знаю, существует легенда о том, что она покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии — не верьте этому. Ее убило то время, нас оно убило, как оно убивало многих, как оно убивало и меня. Здоровы были мы — безумием было окружающее: аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко всему. Письма вскрывались, телефонные разговоры подслушивались; каждый друг мог оказаться предателем, каждый собеседник — доносчиком; постоянная слежка, явная, открытая; как хорошо знала я тех двоих, что следили за мной, стояли у двух выходов на улицу, следовали за мной везде и всюду, не скрываясь!
М. И. читала мне свои стихи, которых я не знала. Вечером я была занята, должна была пойти в театр на «Учителя танцев», и вечер наступил быстро, а расставаться нам не хотелось. Мы пошли вместе в театр, как-то там устроились с билетом и сидели рядом. После театра провожали друг друга. И договорились о встрече на следующий день. Марина Ивановна приехала с утра, и весь день мы не разлучались, весь день просидели вот в этой комнатке, разговаривали, читали и слушали стихи. Кто-то кормил нас, кто-то напоил нас чаем.
М. И. подарила мне вот это (А. А. встает, достает с крохотной полочки у двери темные, янтарные, кажется, бусы, каждая бусина разная и между ними еще что-то). — «Это четки»...
Рассказала, что мама, будучи у нее, переписала ей на память некоторые стихи, особенно понравившиеся А. А., и, кроме того, подарила ей отпечатанные типографски оттиски поэм — «Горы» и «Конца». Все это, написанное или надписанное ее рукой, было изъято при очередном обыске, когда арестовывали мужа или, в который-то раз, сына А. А.
Я рассказала А. А. о реабилитации (посмертной) Мандельштама, о которой накануне узнала от Эренбурга, и Ахматова взволновалась, преобразилась, долго расспрашивала меня, верно ли это, не слухи ли. И, убедившись в достоверности известия, сейчас же пошла в столовую к телефону и стала звонить жене Мандельштама, которой еще ничего не было известно. Судя по репликам Ахматовой, убеждавшей жену Мандельштама в том, что это действительно так, та верить не хотела; пришлось мне дать телефон Эренбурга, который мог бы подтвердить реабилитацию.
Сидим, разговариваем, сын Ардова принес нам чаю; телефонный звонок: жена Мандельштама проверила и поверила».
Есть и иные записи этой встречи Цветаевой и Ахматовой, и тоже со слов самой Анны Андреевны, и в каких-то деталях эти записи схожи, в каких-то несхожи, как и всегда это бывает, когда записи ведут разные люди в разное время и рассказчик что-то забудет, что-то прибавит...
Марина Ивановна об их встрече ничего не написала, а Ахматова в 1962 году:
«Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Харджиева (день второй и последний). Страшно думать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы «благоуханная легенда», как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-лет /ней/ любви, кот/орая/ оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда (не так, как та, с кот/орой/ она любила себя сравнивать, т. е. с арапчонком и обезьянкой в французском платье т. е. decolleté grande garde 11), мне хочется просто, «без легенды» вспомнить эти Два дня».
По версии Али, Марина Ивановна переписывала для Анны Андреевны некоторые стихи, особенно понравившиеся ей, и, кроме того, подарила типографские оттиски «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца». Но о «Поэме Воздуха» Аля не упоминает, она, между прочим, не любила и не понимала эту поэму, не упоминает она также и о том, что Анна Андреевна читала Марине Ивановне «Поэму без героя», над которой в то время работала. А в записях самой Анны Андреевны говорится:
«Когда в июне 1941 г. я прочла М. Ц. кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об арлекинах, коломбинах и пьеро», очевидно полагая, что поэма — мирискусничная стилизация в духе Бенуа и Сомова, т. е. те), с чем она, м. б., боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так» 12.
Может быть, именно этой ахматовской поэме, в которой вереницей проходят тени людей, «живших и бывших», людей, наделенных всеми их страстями, пороками и добродетелями, земной их правдой и неправдой, людей своего времени, своей эпохи, — Марина Ивановна и хотела противопоставить «Поэму Воздуха» и переписала ее за ночь. Поэму безлюдную, где даже нет теней!.. Поэму нетутошнюю, неземную, освобожденную от всего земного, поэму безвременную, поэму воздуха, поэму безвоздушного пространства, поэму пустоты.
Та Оптина пустынь,
Отдавшая — даже звон.
Душа без прослойки
Чувств. Голая, как феллах.
Поэт стремительно отрывается от всего земного, от самой земли 13 и уносится ввысь, в небо, ввинчиваясь в облака, преодолевая, пробивая воздушное пространство слой за слоем, туда —
В полную неведомость
Часа и страны.
В полную невидимость
Даже на тени.
Туда — где «больше не звучу», туда — где «больше не дышу», туда — где ничего, туда — в космическую пустоту...
Ахматовой «Поэма Воздуха» очень не понравилась, она считала ее кризисной, больной, и спустя двадцать лет говорила о том, что такую поэму можно написать одну, другой не напишешь, и что, быть может, даже и творческие причины были в гибели Марины Ивановны, забывая, между прочим, о том, что поэма эта была написана в 1927/!/году, и после этого Марина Ивановна еще много и много писала...
Оба поэта не приняли — не поняли — поэм друг друга, но встреча состоялась! Иначе бы на другой день Марина Ивановна не пришла снова, а Анна Андреевна сумела бы встречи избежать... Об отношениях Ахматовой—Цветаевой много говорится разного. Кто-то сравнил их отношения с отношениями Шумана и Шопена: Шуман преклонялся перед Шопеном, боготворил его, а тот снисходительно принимал это как должное. А кто-то договорился даже до отношений королевы и фрейлины! Королева, конечно, была, но представить фрейлиной Цветаеву?! Ахматова отлично понимала, что Цветаева большой поэт, и говорила об этом не раз, но она многого, очень многого в ней не принимала. И думается, точнее всего было сказано о них обеих Алей: «М. Ц. была безмерна, А. А. — гармонична: отсюда разница их (творческого) отношения друг к другу. Безмерность одной принимала (и любила) гармоничность другой, ну, а гармоничность не способна воспринимать безмерность: это ведь немножко не «comme il faut» с точки зрения гармонии». Правда, в 1940 году Марина Ивановна уже пересматривает свое отношение к стихам Ахматовой, и, как замечает Ахматова, — двадцатипятилетняя любовь оказалась напрасной!..
Да, встреча с Ахматовой состоялась, и в конце концов не столь уж важно, были действительно они в первый день их встречи вместе в театре, как записала со слов Анны Андреевны Аля, или на другой день Марина Ивановна провожала Анну Андреевну до театра Красной Армии от Харджива по Марьиной роще, и за ними неотступно шествовали двое, и Анна Андреевна потом, в 1965 году, в Париже скажет Никите Струве, что она шла тогда и думала: «За кем они следят, за мной или за ней...»
Скрещение Судеб. Меня все меньше
Анна Ахматова и Марина Цветаева
К
онец XIX века принес России четыре удивительных года.
В 1889-м родилась Анна Ахматова.
В 1890-м - Борис Пастернак.
В 1891-м - Осип Мандельштам.
В 1892-м - Марина Цветаева.
Каждый год выдавал по гению. И что, может быть, самое удивительное: судьба распорядилась поровну - из четырех поэтов - две женщины, женщины - ПОЭТЫ, а не поэтессы. На этом настаивали обе: и Анна Ахматова, и Марина Цветаева. (Поэтесса - понятие психологическое, и вовсе не зависит от величины таланта...)
Две звезды, две планеты (уже открыты и названы их именами). До них пока не было дано подняться ни одному женскому имени в литературе. Два поэта, две женщины, две судьбы, два характера…
Анна Ахматова (Горенко) родилась 23 июня 1889 года в пригороде Одессы «Большой Фонтан», в семье морского инженера. Она была третьей из шестерых детей. Когда ей исполнилось одиннадцать месяцев, семья переехала под Петербург: сначала в Павловск, потом - в Царское Село. Это место навсегда освятилось для Ахматовой именем великого Пушкина. Летом ездили к Черному морю. В одиннадцать лет девочка тяжело заболела, еле выжила, и на какое-то время оглохла. С этого момента стала писать стихи.
Родилась 8 октября 1892 года в Москве, в семье профессора. Детство провела в Москве, в Тарусе (между Серпуховом и Калугой), в швейцарских и немецких пансионах; в Ялте: мать болела туберкулезом, и все переезды были связаны с ее лечением. Училась музыке: мать хотела видеть ее пианисткой. По-видимому, лет в девять-десять уже сочиняла стихи - к неудовольствию матери. Детей было четверо: от первого брака И. В. Цветаева - дочь и сын, и от второго - Марина и ее младшая сестра - Анастасия. Когда сестрам было четырнадцать и двенадцать лет, мать умерла от чахотки. (Чахотка царила и в семье Горенко: две сестры Анны Ахматовой погибли от этой болезни.)
 |
Детство той и другой было печальным: «И никакого розового детства», - сказала Ахматова, - то же могла сказать и Цветаева.
Анна Горенко была тоненькой, изящной и болезненной девочкой - девушкой - дружила с морем, плавала, как рыба; отец в шутку звал ее «декаденткой». Марина в детстве и отрочестве отличалась неплохим здоровьем, была полновата, румяна, застенчива. К морю, которое впервые увидела в детстве, не привыкла никогда, не полюбила, - не оправдав тем самым свое имя Марина («морская»).
В ранней юности обе мечтали о любви. Анна Горенко в семнадцать лет безнадежно влюбилась в петербургского студента Владимира Голенищева-Кутузова, все время мечтала о встрече с ним, много плакала, даже падала в обмороки (здоровье ее всю жизнь было очень слабое). Между тем еще несколько лет назад, когда ей было всего четырнадцать или даже чуть меньше, в нее влюбился будущий поэт Николай Гумилев. Позже он несколько раз делал ей предложение, но она отказывала; есть сведения, что он дважды пытался покончить с собой. Но она не любила его; по-видимому, все ее душевные силы были истрачены на безответную любовь к Голенищеву-Кутузову.
Об этой ее любви свидетельствуют несколько писем 1907 года к С. В. фон Штейну, мужу ее старшей сестры. Они единственны в своем роде. Никогда позже ни в стихах, ни в прозе, ни в письмах Анна Горенко (будущая Анна Ахматова) не выражала так бурно, так «напрямую» любовные чувства. С той поры, постоянно совершенствуясь, ее любовная лирика словно бы уйдет «за занавес», музыка стиха никогда не превысит «полутонов» - и всегда будет печальной...
А за Гумилева она все-таки вышла - когда ей был 21 год: в 1910-м. Но счастья у них не получилось. Ведь оба были личностями, оба были поэтами. По гениальному слову Марины Цветаевой:
Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сём...
Каждый хотел быть сам по себе. Гумилев не мог жить без путешествий, надолго уезжал. Она же погрузилась в творчество: писала свою первую книгу «Вечер», которая принесет ей славу...
У Марины Цветаевой все было иначе. Познав «трагическое отрочество» (ее собственные слова), она теперь переживала «блаженную юность». Но до «блаженной юности», еще будучи гимназисткой, она успела написать множество стихов. В 1910 году, когда Ахматова вышла замуж, Цветаева уже выпустила в свет первый стихотворный сборник: «Вечерний альбом». А в следующем, 1911 году, познакомилась со своим будущим мужем - Сергеем Эфроном. Ей было восемнадцать лет, ему - семнадцать. Это был союз на всю жизнь, несмотря на сложные перипетии судьбы и отношений. И права была дочь Цветаевой, когда говорила, что Сергей Эфрон был единственным человеком, которого Марина Цветаева любила по-настоящему. «Я прожила с ним 30 лет и лучшего человека не встретила», - так напишет она незадолго до кончины.
 В 1912 году вышел сборник стихов «Вечер». Имя автора: «Анна Ахматова» - псевдоним, который Анна Горенко взяла по имени своего татарского предка, хана Ахмата; имя Анна ей дали в честь бабушки. Эта книга любовной лирики уже была гармонична и совершенна; в стихах не было ничего детского; они принадлежали перу зрелого, сформировавшегося поэта, и уже тогда были истинными творениями Анны Ахматовой.
В 1912 году вышел сборник стихов «Вечер». Имя автора: «Анна Ахматова» - псевдоним, который Анна Горенко взяла по имени своего татарского предка, хана Ахмата; имя Анна ей дали в честь бабушки. Эта книга любовной лирики уже была гармонична и совершенна; в стихах не было ничего детского; они принадлежали перу зрелого, сформировавшегося поэта, и уже тогда были истинными творениями Анны Ахматовой.
Осенью того же года у Ахматовой и Гумилева родился сын Лев.
1912 год знаменателен и для Марины Цветаевой. Она соединяет свою судьбу с Сергеем Эфроном; осенью появляется на свет их дочь Ариадна; и в этом же году - выходит вторая книга стихов «Волшебный фонарь». Несмотря на несомненные приметы большого таланта, эта книга тоже еще незрелая. Но поэзия Цветаевой, ее поэтический «почерк», теперь начинает очень быстро развиваться и меняться. Она создаст стихи, настолько несходные по творческой манере, что, кажется, они принадлежат разным поэтам. «Почему у Вас такие разные стихи? - Потому что годы разные», - напишет она. И еще: «Из меня можно выделить по крайней мере семь поэтов» (это она скажет в 30-е годы).
Стихи Ахматовой (их духовный, психологический смысл, драматизм и т. д.) тоже будут меняться в зависимости от времени. Но то, что принято обозначать как ФОРМА, - останется до самого конца гармонической, классически-ясной. Анна Ахматова - поэт пушкинской школы.
Хорошо сказал о поэтическом и психологическом различии той и другой известный русский эмигрантский исследователь литературы Константин Мочульский - еще в 1923 году:
«Цветаева всегда в движении; в ее ритмах - учащенное дыхание от быстрого бега. Она как будто рассказывает о чем-то второпях, запыхавшись и размахивая руками. Кончит - и умчится дальше. Она - непоседа. Ахматова - говорит медленно, очень тихим голосом; полулежит неподвижно; зябкие руки прячет под «ложноклассическую» (по выражению Мандельштама) шаль. Только в едва заметной интонации проскальзывает сдержанное чувство. Она - аристократична в своих усталых позах. Цветаева - вихрь, Ахматова - тишина... Цветаева вся в действии - Ахматова в созерцании...»
 |
Ахматова и Цветаева были резко противоположны, полярны, - и прежде всего, по своим природным качествам, которые даются от рождения и остаются неизменными.
Прежде всего, каждой был отмерен свой жизненный срок; Ахматова немного не дожила до 77 лет, Цветаева - до 49-ти. Между тем литературное наследие Цветаевой значительно обширнее, нежели ахматовское.
Одна из важнейших загадок природы состоит в запасе энергии, по-разному отпущенной каждому человеку. У Анны Ахматовой эта энергия была гармонично распределена на протяжении ее долгой - притом весьма трагической, жизни - и не иссякала до последнего дня. Я не говорю уже о ее слабом здоровье, о постоянных болезнях с юных лет (слабые легкие и сердце). Откуда и возник классический образ полулежащей Ахматовой, запечатленный на фотографиях и рисунках Модильяни.
Представить в подобной позе Марину Цветаеву немыслимо. Недаром она называла свое здоровье железным: имела крепкое сердце, была неутомимым ходоком, спала мало, и ранним утром спешила к письменному столу. И исписывала десятки столбцов вариантов рифм, слов, строк, не щадя сил, потому что они (до поры до времени) не предавали ее.
Но люди, наделенные необычайной творческой, психической энергетикой, никогда долго не живут. Я имею в виду не болезни, от которых никто не застрахован. Просто мощная, бурная энергия у таких людей так же бурно и мгновенно обрывается. Так было с Мариной Цветаевой, о самоубийстве которой существует множество различных неумных версий. В то время как о самом главном почему-то не говорят: о том, что жизненная сила, психическая энергия иссякает. Цветаева ушла из жизни, убедившись, что она больше ничего не может: ее воля к жизни иссякла.
Здесь, вероятно, уместно будет сказать об отношении обоих поэтов к смерти. (Тот факт, что и у Ахматовой, и у Цветаевой в юности были попытки самоубийства - ни о чем не говорит; речь идет о закате жизни: зрелость Цветаевой, старость Ахматовой).
Когда жуткие обстоятельства стали неотвратимо и явно уничтожать мощный цветаевский дух, она написала такие строчки:
Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...
Она всегда знала, что уйдет из жизни. Рано или поздно. Вопрос был только во времени. Ахматова, невзирая ни на какие обстоятельства, никогда бы добровольно не ушла из жизни. Но в старости она, по-видимому, часто думала о смерти, не боясь ее, принимая как неизбежную данность. Об этом она говорит в нескольких своих стихотворениях.
Но продолжу, однако, сопоставление жизненных, творческих, психологических обстоятельств.
Анна Ахматова выпускает вторую книгу стихов: знаменитые «Чётки»; множество раз они будут переизданы. В 1918 году разводится с Н. Гумилевым. (Их сын Лев воспитывался в новой семье.) Цветаева, которая впервые прочла стихи Ахматовой, по-видимому, в 1912 году, увлеклась ее поэзией, а также личностью, стоявшей за стихами. Она сотворила себе образ «роковой красавицы», называла ее «Музой Плача» и «Златоустой Анной всея Руси». Очень хотела встретиться и отправилась в 1916 году в Петербург с чувством и желанием соперничества: Москва против Петербурга. Но встреча не состоялась: Ахматова болела и находилась в Царском Селе. Впоследствии, когда Цветаева будет писать ей восторженные письма, Ахматова отнесется к ним с присущей ей сдержанностью. В этих, можно сказать, неравноправных отношениях, пожалуй, сильнее всего выявился контраст натур Ахматовой и Цветаевой. И здесь нужно говорить о такой важнейшей вещи, как любовь - в жизни, а значит, и в творчестве обеих.
Слово любовь для Марины Цветаевой ассоциировалось со словами Александра Блока: тайный жар. Тайный жар - это состояние сердца, души, - всего существа человека. Это - горение, служение, непрекращающееся волнение, смятение чувств. Но самое всеобъемлющее слово все-таки - любовь. «Когда жарко в груди, в самой грудной клетке... и никому не говоришь - любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это - любовь», - писала Цветаева, вспоминая свои детские переживания.
Она утверждала, что начала любить, «когда глаза открыла». Это чувство, состояние тайного жара, любви - мог вызвать исторический или литературный герой («ушедшие тени»), какое-нибудь место на земле, - например, городок Таруса на Оке, где прошли лучшие месяцы в детстве; и, конечно, конкретные люди, встреченные в жизни. «Пол и возраст ни при чем», - любила повторять Цветаева. И на этих живых, реальных людей она, не зная меры, обрушивала весь шквал своих чувств. И «объект» подчас спасался бегством. Он не выдерживал раскаленной атмосферы страстей, требований, которые Цветаева предъявляла к нему. Потому-то она и говорила, что умершего, «ушедшую тень» легче любить, что «живой» никогда не даст себя любить так, как нужно ей; живой хочет сам любить, существовать, быть. И даже договаривалась до того, что ответное чувство в любви для нее, для любящей - помеха. «Не мешай мне любить тебя!» - записывает она в дневнике. Ее открытость, распахнутость отпугивала мужчин, и она это понимала и признавала: «Меня любили так мало, так вяло».
Ахматова, как уже было сказано, познала в юности сладкую отраву безответной любви, а с другой стороны - любовь к себе, на которую не могла ответить. С ранних лет у нее было множество поклонников, но, пожалуй, никто не смог вызвать в ней костер «тайного жара», подобного цветаевскому.
Ахматова обладала поразительной внешностью. Современник, поэт Георгий Адамович, знавший ее смолоду, вспоминает: «Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание. Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический... когда она, стоя на эстраде... казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг... Бывало, человек, только что ей представленный, тут же объяснялся ей в любви».
Облик Ахматовой просился на портрет; художники, что называется, «наперебой» писали ее: А. Модильяни, Н. Альтман, О. Кардовская - это только до 1914 года! Кардовская записала в дневнике: «Я любовалась красивыми линиями и овалом лица Ахматовой и думала о том, как, должно быть, трудно людям, связанным с этим существом родственными узами. А она, лежа на своем диване, не сводила глаз с зеркала, которое стоит перед диваном, и она на себя смотрела влюбленными глазами. А художникам она все же доставляет радость любования - и за то спасибо!»
Так, с молодых лет, родился образ Анны Ахматовой: образ «роковой», печальной женщины, которая, помимо даже собственной воли, не прикладывая никаких усилий, покоряет мужские сердца. Чувствуя это, юная Ахматова написала стихотворение (ей было 17 лет):
Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.
Умею заглядывать в очи с улыбкой
Манящей, призывной и зыбкой.
И гибкий мой стан так воздушен и строен,
И нежит кудрей аромат.
О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен
И негой объят...
Я умею любить. Я обманно-стыдлива.
Я так робко-нежна и всегда молчалива.
Только очи мои говорят...
...
И в устах моих - алая нега.
Грудь белее нагорного снега.
Голос - лепет лазоревых струй.
Я умею любить. Тебя ждет поцелуй.
В дальнейшем это «кокетство» Ахматова не пустит на порог своей лирики; там будут царить полутона и все чувства будут пребывать как бы за сценой, за занавесом:
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
(«Песня последней встречи», 1911)
Много лет спустя Цветаева с восторгом писала об этом стихотворении: «Ахматова... одним росчерком пера увековечивает исконный нервный жест женщины и поэта, которые в великие мгновенья жизни забывают, где правая и где левая - не только перчатка, а и рука, и страна света... Посредством... поразительной точности деталей утверждается... целый душевный строй...»
Но это - восхищение формой, точностью поэтического образа. Восхищение чуждым. Ибо ахматовская сдержанность была полярно противоположна цветаевской безудержности. Весь «любовный крест», всю гору любви лирическая героиня, - а значит, и сам поэт - берет на себя. Так было не раз в жизни Цветаевой. И с роковой неизбежностью все завершалось одним: разочарованием, даже, порой - презрением. Ее дочь Ариадна говорила, что всякое увлечение матери кончалось тем, что, перестрадав, она развенчивала своего недавнего кумира, убедившись, что он - слишком мелок, ничтожен.
 |
|
Портрет Анны Ахматовой |
Е сли Анну Ахматову бесспорно считают олицетворением женственности, то по отношению к Марине Цветаевой существуют два прямо противоположных мнения. Что такое ее максимализм? Одни находят его сугубо женским свойством, доведенным почти до крайнего предела. Другие, наоборот, приписывают эту склонность к «захватничеству», «собственничеству» в любовных чувствах некоему мужскому, активному началу. Как бы там ни было, Цветаева мужественно признавалась, что не нравится мужчинам. Да и как могло быть иначе, когда она не скрывала, что считает их слабыми, неспособными к сильным чувствам? Своих незадачливых знакомых, в которых разочаровалась, она выводила в стихах и поэмах. Так возникали образы «комедьянта», маленького, вечно спящего царевича в поэме «Царь-девица» и т. д. Речь, однако, сейчас не о творчестве.
Для Анны Ахматовой мужчины всегда оставались «поклонниками», - чему я сама была живым свидетелем. Причина, думается мне, была в том, что Ахматова никогда не переставала быть женщиной. Тоненькая, грациозная в молодости, «роковой» она оставалась всегда. Сильно располнев, огрузнев в старости, она превратилась... в королеву. Величавая осанка в сочетании, казалось бы, с несочетаемым свойством: крайней простотой обращения, - делали из нее фигуру неизменно обаятельную для всех, кто с нею общался, включая автора этих строк.
Однако для того, чтобы более или менее исчерпывающе сопоставлять эти два поэтических характера - Ахматовой и Цветаевой, - необходимо поместить их в «контекст» событий, исторических и житейских. История России, наложившаяся на личности обеих, продиктовала им выбор своей судьбы.
Летом или осенью 1917 года, во время империалистической войны, человек, небезразлично относившийся к Ахматовой, по-видимому, предложил ей уехать. Она отвергла это предложение в стихотворном ответе осенью 1917 года, а в следующем году напечатала стихотворение не полностью - вторую его часть - и оно, после октябрьского переворота, стало звучать весьма патриотически, а главное - политически безупречно:
Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
...
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Дело было не в патриотизме и тем более не в политике. Просто есть люди - космополиты по душевному складу; к ним Анна Ахматова не принадлежала. Заграницу она знала в молодые годы; по-видимому, жизнь там не прельщала ее по неким неисповедимым внутренним, творческим причинам. Она была русским, и только русским поэтом, и с каждым годом это выявлялось в ней все сильнее. Она приговорена была Жизнью нести свой крест у себя дома, в «краю глухом и грешном», в России, где с каждым годом становилось жить все невыносимее. Как верно утверждает лучшая исследовательница жизни и творчества Ахматовой англичанка Аманда Хейт, поэт пытался укрыться, спастись от невзгод в семейной жизни, но безуспешно. Союзы с мужчинами, любившими Ахматову, и для которых она пыталась стать верной спутницей, рушились так же, как рушилась, уродовалась сама жизнь. Нужно было не рождаться поэтом, чтобы обрести подобие дома на родине. «Роковая» женщина не создана для быта; более того, при соприкосновении с бытом она искажается, - так же, как и ее партнеры.
Существование Анны Ахматовой после октябрьского переворота являет собой страшную картину.
 |
|
Портрет Марины Цветаевой |
То же можно сказать и о Марине Цветаевой; ее жизнь в так называемой «послереволюционной» Москве достаточно известна... Когда она узнала, что Сергей Эфрон остался в живых, находится в Турции и едет в Прагу, она, не раздумывая, начала собираться в дорогу, обмирая от ужаса, - вдруг поездка не состоится... Она уезжала с тяжелым сердцем: она потеряла в Москве младшую дочь, погибшую от голода; она ехала «в никуда». Но она ехала к мужу; без него она не мыслила жизни.
И, что особенно важно: ее творческая энергия была настолько мощной, что она буквально ни на день не прекращала писать (стихи, дневники, письма). Приехав в мае 1922 года в Берлин, еще не встретившись с Сергеем Эфроном, который задерживался в Праге, она сразу же ощутила прилив творческих сил, импульс, невольно посланный человеком, захватившим ее воображение, - и полился поток лирических стихотворений... А то обстоятельство, что произошло все это не «дома», а на «чужой стороне», - не имело значения. Отрыв от родины никогда не скажется на цветаевском творчестве.
Если Ахматова вырастала в поэта России, если она несла в себе свою эпоху (ее потом так и звали: «Эпоха»), то Цветаева-поэт превращалась как бы в «гражданина Вселенной». Недаром ей были близки слова Каролины Павловой:
Я - вселенной гость,
Мне повсюду пир,
И мне дан в удел
Весь подлунный мир!
«Жизнь - это место, где жить нельзя», - утверждала Цветаева. «В жизни ничего нельзя». Поэт на земле - это пленный дух, он творит «в просторе души своей», и там ему подвластно все. Лирика Цветаевой - это лабиринт человеческих страстей, перипетии любовных чувств, где «она», лирическая героиня, - сильнее, мудрее объекта своей любви. В стихах Цветаевой нет примет времени, места; они - вселенские, мировые. Герои же ее крупных произведений - драм и поэм - литературные либо исторические персонажи, которым тоже нет места на земле. А главная и постоянная коллизия - разлука, разминовение, невстреча. В финалах многих ее вещей - все завершается неким вознесением - в иной, вышний мир: не рай и не ад, не Божий или дьявольский, - в небо поэта, которое, по Цветаевой, - «третье царство со своими законами... первое от Земли небо, вторая земля. Между небом духа и адом рода - искусство, чистилище, из которого никто не хочет в рай».
Ответ на вопрос: была ли Марина Цветаева верующим человеком? - не может быть однозначным. Цветаева-поэт ощущала над собой некий высший, горний мир, таинственную стихию, подчинявшую себе поэта. Гения поэта (в мужском роде, слово Муза она употребляла редко).
Это было БЫТИЕ поэта (слово самой Цветаевой). Что же до БЫТА, то есть земной обычной человеческой жизни, «в которой жить нельзя», - то именно здесь Цветаева на удивление покорно соблюдала «правила игры» семейной женщины с двумя детьми (сын родился в 1925 году), почти безработным мужем и удушающими обстоятельствами полунищего существования: уборкой, стиркой, кухней, штопкой и т. п. Но цветаевской феноменальной энергии, о которой уже говорилось, - хватало на все. И на писанье стихов и прозы, и на выступления (для заработка) на литературных вечерах, и на воспитание детей.
Она жаловалась, громко жаловалась на существование, многих просила о помощи (и получала ее), проклинала убогую, приземленную жизнь - и продолжала жить, и творить, и печататься. Подавляющее большинство ее произведений увидело свет. Стихов со временем она будет писать меньше, перейдет на прозу, - но писать не перестанет ни на минуту. И прибавим: увлекаться людьми...
Счастлива она не была, да и не могла быть по трагическому складу натуры. Однако объективно ее жизнь за границей (Берлин, Чехия, Франция) в течение примерно 15–16 лет, не считая последних двух, - можно назвать благополучной, несмотря ни на что...
С точки зрения благополучия или хотя бы минимального, бытового «устройства» жизнь Анны Ахматовой являет собою сущий ад, и чем дальше, тем хуже. В июле 1922 года, когда Цветаева собиралась переезжать из Германии в Чехию, Ахматова написала стихотворение, где выразила не только отношение к России, к ее судьбе, но как бы приоткрыла частицу своей души:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
В двух последних строках - вся Ахматова: сдержанна, величественна, проста. Она приготовилась нести свой крест, испить свою чашу. Чашу немыслимого одиночества, потому что никогда не была она «ни с теми, ни с другими». Ее жизнь разрушалась. И тогда она, поэт Анна Ахматова, примет всю тяжесть свершающегося в стране на свои плечи.
Поначалу у нее еще выходили книги стихов: политическая, литературно-конъюнктурная обстановка в стране еще балансировала на последней грани возможного. А затем все оборвалось. «Между 1925–1939 годами меня перестали печатать совершенно... Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет...», - писала Ахматова.
Нищету, в которой она жила, представить невозможно. Современники вспоминают, что порой в доме не было сахару к чаю - да и самого чая; зарабатывать она не могла; постоянно болела, бесконечно температурила и часто просто не могла поднять головы от подушки, лежа дни напролет. Конечно, были преданные друзья: навещали, приносили еду, помогали, вернее - брали на себя бытовые хлопоты и дела. Ахматова ничего и никого не просила, - да это и не было нужно: люди видели, что она не может заниматься житейскими делами, и ее поручения подразумевались сами собою и исполнялись с радостью. Все понимали, что она не рисуется, не строит из себя некую «барыню». Она была естественно и органично отрешена от быта - как вещи, для нее абсолютно непосильной. И так же стоически, не жалуясь, переносила свои вечные недомогания, не терпела и не допускала, чтобы ее «жалели».
Но ее дух работал постоянно. В двадцатые годы, когда она почти прекратила писать стихи, она стала изучать Пушкина, его трагедию, его гибель, психологию творчества. Долгие годы Ахматова посвятит своей «пушкиниане», - и эта работа будет соответствовать ее натуре: неспешное обдумывание, сопоставление различных источников, и, конечно, множество важных и тонких открытий.
Марина Цветаева займется пушкинской темой несколько позже, не изучая Пушкина так углубленно, как Ахматова. Ее суждения, «формулы» беспощадны, пристрастны; ахматовские наблюдения - сдержанны, хотя и не бесстрастны: за каждой мыслью стоит гора переработанных, обдуманных источников. Хотя обе были диаметрально противоположные «пушкинистки» (Цветаева в этом отношении очень раздражала Ахматову), их роднила нелюбовь к Наталье Николаевне Пушкиной.
Вообще сам процесс творчества проходил у них совершенно по-разному. Цветаева подчиняла свое вдохновение по-мужски деловому, четкому режиму. «Вдохновение плюс воловий труд - вот поэт», - утверждала она. Она исписывала десятки страниц в поисках нужной строки или даже слова. К Ахматовой стихи приходили иначе. Уже немало написано о том, как она, лежа и закрыв глаза, что-то невнятно бормотала, или просто шевелила губами, а потом записывала то, что ей услышалось. Естественно, так же они работали и над переводами. Цветаева заполняла рабочую тетрадь столбцами рифм, вариантов строк и т. п. Эти тетради я видела неоднократно. С Ахматовой в этом смысле дело обстояло, конечно, «по-ахматовски».
Однажды, по просьбе редактора, я передала Анне Андреевне подстрочники двух нерифмованных стихотворений болгарского поэта Пенчо Славейкова. А потом увидела их перевод. Ахматова лишь слегка прикоснулась к подстрочнику: где изменила фразу, где слово, - и произошло чудо: стихи зазвучали музыкой. За всем этим также стоял труд поэта; только бумаге доверялся не поиск (как в цветаевских черновиках), а результат.
Советский режим, террор и репрессии, царившие в стране, планомерно добивали Ахматову. В 1939 году был арестован ее сын (в первый раз - в 1935 году, но тогда его вскоре выпустили).
Эта трагедия сделала Ахматову великим поэтом России.
За пять лет, с 1935 по 1940 годы, ею написано не более двадцати стихотворений. Но дело было не в количестве. Зазвучал трагический голос из преисподней - голос миллионов, казненных и замученных. Заговорила страдающая, поруганная Россия - устами поэта, который «в глухом чаду пожара» остался со своим народом и «подслушал» у него те самые, единственные слова, которыми только и смог выразить весь кошмар происходящего.
Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска...
Эти стихи составили цикл «Реквием». В России они будут напечатаны лишь через двадцать лет после ее кончины...
Трагедия России настигла, наконец, и Марину Цветаеву. Обстоятельства ее возвращения в июне 1939 года в Москву, когда она, спасаясь от одной погибели, прямиком угодила в пасть другой, - широко известны. Ее дочь Ариадну и Сергея Эфрона арестовали в том же самом, 1939 году, что и Льва Гумилева. Ахматова носила передачи в ленинградский застенок, Цветаева - в московский. Как много знали они друг о друге в это время?
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом.
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
(«Невидимка, двойник, пересмешник...», март 1940)
Этих строк Цветаева никогда не узнала.
Остается напомнить об их встрече, уже много раз описанной. Они виделись 7 и 8 июня 1941 года, перед самой войной, в Москве, куда Ахматова приезжала хлопотать за сына. О содержании их разговора почти ничего не известно. Известно лишь, что Ахматова больше молчала, а Цветаева много и нервно говорила. По-видимому, внешне они не особенно понравились друг другу. «Просто - дама», - равнодушно отозвалась Цветаева в ответ на чей-то взволнованный вопрос. Ахматова же с юмором заметила: «Она была сухая, как стрекоза». И другому собеседнику: «В сравнении с ней я телка». Несомненное и взаимное любопытство друг к другу, конечно, сильно померкло под тяжестью и горечью бед, свалившихся на плечи обеих. Однако попытка творческого общения поэтов все же состоялась. И обернулась взаимным непониманием, невстречей, как могла бы сказать Цветаева. Она читала (и подарила Ахматовой) «Поэму Воздуха». Ахматова прочла начало своей заветной «Поэмы без героя», работе над которой она впоследствии посвятит много лет, - поэму о наваждении теней прошлого века. (Напомню, что новый, «не календарный» XX век для Анны Ахматовой начался с войны 1914 года, положившей начало гибели ее России). Когда Цветаева слушала главу «Решка», в которой как бы «подводным течением» проходили мотивы «Реквиема» - вряд ли она что-нибудь поняла; о «Реквиеме» же вообще не имела представления; эти стихи находились глубоко под спудом и читались единицам... Она могла воспринять лишь то, что лежало на поверхности: условность, театральность имен и названий. «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро», - вспоминала Ахматова слова Цветаевой.
В свою очередь Ахматова не приняла цветаевскую «Поэму Воздуха», обращенную к памяти Р. М. Рильке, - гениальную поэму смерти, поэму ухода, поэму расставания с земной стихией, поэму перехода в великую стихию Духа, Разума, Творчества. «Марина ушла в заумь, - писала Ахматова много лет спустя, в 1959 году о «Поэме Воздуха». - Ей стало тесно в рамках Поэзии... Ей было мало одной стихии, и она удалилась в другую или в другие».
Два больших поэта не поняли друг друга. Так случается: слишком велика была творческая индивидуальность каждой. Да и обстановка в России не способствовала подробным, откровенным отношениям. На взаимопонимание необходимо время, - его не было.
Через две недели началась война. 31 августа в татарской Елабуге Марина Цветаева покончила с собой. Ахматова отправилась в эвакуацию в Ташкент. После Цветаевой она прожила без малого двадцать пять лет. Она осталась «домучиваться». Ей предстояла еще целая цепь трагедий. И лишь в конце жизни пришло международное признание: премии в Англии и Италии.
Трагические перипетии еще больше утверждали Анну Ахматову в сане русского национального поэта, вобравшего в себя, несшего в себе все беды своего народа.
Быть может, одно из лучших свидетельств тому - стихотворение, написанное в 1961 году, за пять лет до смерти:
Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете, -
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы, -
Мне прислали по одной копейке,
Стала б я богаче всех в Египте,
Как говаривал Кузмин покойный.
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой.
И я стала всех сильней на свете,
Так что даже это мне не трудно.
Встреча-фантазия Анны Ахматовой
и
Марины Цветаевой в Елабуге.
Из фильма Дмитрия Томашпольского .
С едьмого июня (1941) Марина Цветаева встретилась наконец с Анной Ахматовой. Многолетняя мечта, постепенно остывая, перешла в любопытство, уже не освещенное любовью, тем более, что прошлой осенью Цветаева раскритиковала последнюю ахматовскую книгу… Однако желание встретиться у Марины Ивановны оставалось. Об этом знал Пастернак. Услышав от него, что Цветаева хочет ее видеть, Ахматова пригласила ее к Ардовым, у которых остановилась: Большая Ордынка, семнадцать, квартира тринадцать, второй этаж, крохотная комнатка, прозванная «шкафом», где жила Ахматова. Хозяин, приняв участие в первых репликах, тактично удалился, и содержание беседы, длившейся несколько часов (Цветаева пришла днем), осталось навеки тайной. Вечером Ахматова должна была идти в театр (по другой версии, в театр она шла на следующий день). Как бы то ни было, встреча поэтов продолжилась восьмого июня, — по взаимному ли желанию или по инициативе Марины Ивановны, — мы не знаем. Ахматова в тот день навещала Н. И. Харджиева. Он жил тогда в Марьиной роще, в Александровском переулке, дом сорок три, квартира четыре. Дом был двухэтажный, деревянный, барачного типа — как и все в том переулке. Там, на первом этаже четырехкомнатной «коммуналки», в маленькой (тоже!) комнатке с окном во двор, пасмурным днем состоялась эта встреча — в присутствии хозяина и Т. С. Грица, который и привел туда Цветаеву (с ним, а также с Харджиевым, ее познакомил Крученых). Не знаменательны ли эти каморки — и вообще эти убогие обстоятельства встреч двух лучших поэтов России?
Харджиев вспоминает, что Ахматова больше молчала, а Цветаева, напротив, много говорила, притом «часто вставала со стула и умудрялась легко и свободно ходить по моей восьмиметровой комнатенке». Говорила о Хлебникове, чьи неизданные сочинения выпустили в прошлом году Харджиев и Гриц; о Пастернаке, который якобы избегает ее и с которым не виделась полтора года; о западноевропейском кино; о живописи. В голосе ее звучали горечь, нетерпимость, своеволие. После встречи Ахматова не без юмора заметила, что она в сравнении с Цветаевой — «телка», невольно оттенив этими словами свою внешнюю безмятежность, простоту, женственность. Ее горе (она хлопотала за репрессированного сына) было глубоко спрятано; она не позволяла себе быть несчастной. Цветаева тоже не выплескивала наружу трагические обстоятельства; но она не могла скрывать свое врожденное (а теперь усугубившееся) состояние: беды собственного рождения в мир. Она была нервна, угловата, замучена, чем и контрастировала с тоже несчастной, нищей, бездомной, опасающейся слежки, но неизменно царственной и гармоничной «Музой плача». Словом, встретились две разные породы, две разные сущности, поэтические и человеческие, и произошло неизбежное взаимное отталкивание. Около двадцати лет спустя Ахматова написала, что ей хочется просто, «без легенды» «вспомнить эти Два дня». И что если бы встречу записала Цветаева, то «это была бы „благоуханная легенда“, как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно».
Конечно, обе были скованы, — тем более на второй день, в присутствии других. Ахматова впоследствии сожалела, что не прочла Цветаевой посвященное ей стихотворение прошлого года «Невидимка, двойник, пересмешник...». «Ей я не решилась прочесть, — сказала она Л. К. Чуковской в 1956 году. — А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых» («Поглотила любимых пучина». — А.С.).
Ариадна Эфрон со слов Ахматовой записала впоследствии, что Марина Ивановна переписала для Анны Андреевны несколько стихотворений и подарила типографские оттиски «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца», — все погибло при одном из обысков. Однако позже Ахматова рассказывала, что Цветаева подарила ей «Поэму Воздуха», а она прочла Цветаевой первый набросок «Поэмы без героя».
Символично: оба поэта хотели познакомить друг друга с самыми своими заветными вещами. Но… понимания не возникло. Через девятнадцать лет Ахматова, перечтя «Поэму Воздуха», записала:
«Марина ушла в заумь… Ей стало тесно в рамках Поэзии… Ей было мало одной стихии, и она удалилась в другую или в другие. Пастернак — наоборот: он вернулся (в 1941 году — Переделкинский цикл) из своей пастернаковской зауми в рамки обычной (если поэзия может быть обычной) Поэзии...»
Ахматова не захотела последовать за Цветаевой в «другую стихию» и назвала «заумью» цветаевскую попытку проникнуть в дух Поэта, рвущийся в поднебесье. Но и Цветаева не восприняла ахматовскую поэму. Она слушала строки, сочиненные этой «дамой», — ибо именно так она отозвалась о «Царскосельской музе», — где звучали, говоря словами самой Ахматовой, «очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки „Реквиема“ (но она и понятия не имела об этой вещи!). А к стихам, где мелькали тени прошлого века, „арлекинада тринадцатого года“, осталась глуха. „Когда в июне 1941 г. я прочла М Ц кусок поэмы (первый набросок), — вспоминала Ахматова, — она довольно язвительно сказала: “Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро», очевидно полагая, что поэма — мирискусническая стилизация в духе Бенуа и Сомова...".
В поэме Ахматовой Цветаева не вычитала трагичности времени, трагичности бега времени.
В поэме Цветаевой Ахматова не восприняла трагичности бытия поэта в мире.
Так произошла эта невстреча, — в быту. А в бытии — столкновение двух начал: аполлонического и дионисийского…

Стоит лишь произнести эти имена, как память воскрешает определенные воспоминания. Во-первых, с именами Ахматовой и Цветаевой связана новая страница русской поэзии. В литературе появилась, так называемая, «женская» поэзия. Действительно, едва ли не впервые в истории литературы женщина обрела голос, впервые из объекта поэтического чувства женщина стала в поэзии лирическим героем. Исконно женское появится в поэзии тоже впервые. Лирическая героиня внесет в поэзию новое умение видеть и любить человека.
Вспоминается «бремя поэта». Нелегкое бремя. Тем более, если это «бремя» поэта – женщины. Ведь поведав «городу и миру» «о времени и о себе», она отдает себя, свое имя, свое творчество в руки читателя, и оно неизбежно обрастает легендами и мифами. Сопровождали они всю жизнь и их. Особенно много их выпало на долю А. Ахматовой, в творческой судьбе которой всегда было сплошное неблагополучие. Отголоски его доходят и до наших дней (я имею в виду появившуюся на книжном рынке книгу Т. Катаевой «Анти – Ахматова»). Горька судьба поэтов всех времен. В моей же памяти имена Анны Ахматовой и Марины Цветаевой оставили самые проникновенные воспоминания.
Они прожили жизнь по-разному. Но каждой из них пришлось испить свою чашу страданий. Но они не переставали писать всегда о событиях героической истории нашей страны. Их стихи перешли в будущее. И это будущее – в сегодняшнем дне.
Я не скажу, что мое открытие Ахматовой и Цветаевой уже состоялось, оно у меня, наверное, еще впереди. Но у меня сложился свой круг стихов, которые я постоянно перечитываю. Это те стихи, которые в отличие от школьных заданий, я не анализирую с точки зрения выразительных средств языка, размера стиха (ямбом или хореем написано оно); они отозвались во мне, вызвали какое-то встречное движение моей души:
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывает под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
И кто в этом поэтическом откровении не узнает Цветаеву – поэта, чье имя нельзя спутать ни с кем другим. Стихи ее можно узнать безошибочно – по особому распеву, неповторимым ритмам, не общей интонацией. Есть три вещи, которые мы воспринимаем сердцем, чувством – это поэзия, музыка и живопись. По-моему, в этом цветаевском шедевре есть все. Только равнодушный не поймет, что это о любви. О любви, которой нет, но о которой так мечтает лирическая героиня. Какая музыкальность в этих повторах «мне нравится…», какое живое сравнение «вы больны не мной…», «я больна не вами» (любовь – это всегда боль, страдание). В восхищение приводит чисто цветаевское, не общее, не характерное для других – «за наши негулянья под луной». И как аккордное звучание, наполненное такой лирической грустью:
За то, что вы больны – увы! (вот это трогательно грустно!) — не мной,
За то, что я больна – увы! – не вами!
Так и хочется сказать: вот оно женское умение видеть и любить человека, хотя бы в мечтаниях, надеждах. Невольно сравниваю с другим:
Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, —
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены тоскою…
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
А это уже ахматовское. О чем оно? Тоже о любви. Счастливой и несчастной одновременно, облагораживающей, одухотворяющей жизнь и заставляющей страдать. И чаще всего – с трагической развязкой («Теперь ты понял, отчего мое не бьется сердце под твоей рукою»).
Здесь все просто, строго, благородно и лаконично. Духовный мир лирической героини отличается внутренней гармонией, душевной стойкостью, уравновешенностью. Стих отличается четким ритмом («сердце рвется от любви», «не бьется сердце под твоей рукою»). Чувствуется точная рифма, внутренняя сдержанность героини в своем чувстве любви. О несостоявшейся любви, но как по-разному.
Надежда, предчувствие, первая встреча, измена, боль, разрыв, родная земля – вот с этим богатым духовным миром человека знакомят нас два поэтических женских голоса.
Уехала из революционной России М.Цветаева, ей пришлось испить горькую чашу одинокой эмигрантской судьбы, изранить свою душу вдали от Родины, но всегда помня о ней и возвращаясь к ней в стихах:
Рябину
Рубили
Зорькою.
Рябина –
Судьбина
Горькая.
Рябина –
Седыми
Спусками…
Рябина!
Судьбина
Русская.
Я не стану обращать внимание, куда происходит смещение ударения. Мне важно другое – душевное состояние героини. Так рвать на части одно слово может человек, у которого душа от страданий рвется на части. «Рваный стих» Цветаевой только усиливает наше ощущение «срубленной судьбы».
А вот другое, ставшее хрестоматийным, — «Тоска по родине…». Надо сказать, что понять Цветаеву, войти в ее художественный мир для нас не так-то просто. «Я одна с моей большой любовью к собственной моей душе», – и в этих словах первооснова понимания ее стихов. Вот потому смысл ее стихов станет понятным после нескольких прочтений. Для понимания ее стихов важнее всего постичь ее внутреннее содержание, ее душевное состояние. А его разгадать не так-то просто. Я читаю строки стихотворения «Тоска…»:
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где совершенно одинокой
……………………………….
Как бы споря с воображаемым оппонентом, лирическая героиня пытается доказать, что ей абсолютно все равно: «и ностальгия не что иное, как «разоблаченная морока», и дом «как госпиталь или казарма». Ей все равно, «где не ужиться» и «где унижаться».
Полное безразличие к миру и к своему в нем существованию. Но вот я дохожу до строк:
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все-равны, мне все-равно,
И, может быть, всего равнее –
Роднее бывшее – всего
Все признаки с меня, все меты,
Все даты – как рукой сняло:
Душа, родившаяся – где-то
Всего роднее, оказывается,- бывшее, минувшее, невозвратное. Дороже всего для Цветаевой – погружение в свою душу, в ее истоки, прародину своего «я»:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все – равно, и все-едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…
И опять «встает – рябина». Куст с осенней горькой ягодой… «Мне все равно…».И лишь вид рябинового куста сменяет обжигающей горечью – воспоминанием о тех близких людях, из круга которых «вытолкнута» она в жизнь, как она есть». Таково мое восприятие и понимание поэтического голоса Цветаевой:
Все повторяю первый стих
И все переплавляю слово:
«Я стол накрыл на шестерых…»
Ты одного забыл – седьмого
Невесело вам вшестером.
На лицах – дождевые струи…
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть – седьмую…
Стихотворение М.Цветаевой, написанное в год ее смерти. Здесь, у последней черты, все чувства Марины Цветаевой достигли своего абсолюта. Тоска полнейшего одиночества от сознания, что в этой жизни оказалась седьмой, лишней, забытой. Трагическое ощущение собственной ненужности. И как роковое убеждение, что она ничего не умеет, паралич воли… И – тупик:
Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный…
«Так край родной меня не уберег…» Но сохранил память.
Она подвергалась гонениям, травлям. На ее голову обрушивались толики хулы и кары. Жизнь почти всегда в бедности и в бедности умереть. Познать, может быть, все лишения, кроме лишения Родины – изгнания. Это я о судьбе поэтического голоса Анны Ахматовой. «Мне счастливой не бывать», — так о себе скажет она. И все-таки счастливая, потому что была женским поэтическим голосом героической истории нашей страны, потому что не переставала писать всегда. Много воспоминаний, мифов, легенд существует вокруг имени А.Ахматовой. Среди всех есть и воспоминания Иосифа Бродского, который скажет о ней, что «такие поэты, как она, просто рождаются». А слова поэта о поэте дорогого стоят. Глубоко личный лиризм; стих, тяготеющий к народному говору, к ладу народной песни. Рифмы легки, размер, стиха не стесняющий. Так просто и с голосом такой поэтической силой о любви может сказать только Ахматова:
Сжала руки над темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?..»
-Оттого что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот,
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
Вот таков лирический герой у Ахматовой – человек сильный и мудрый. Любовь в женском понимании Ахматовой – это не только любовь – счастье, тем более благополучие. Часто и слишком часто – это страдание, «больная» любовь.
Но в поэзии Ахматовой есть еще одна любовь – к родной земле, к Родине, к России:
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Всего одна фраза: «Руками, я замкнула слух…» Не от искушения, не от соблазна, а чтоб «не осквернила». И отвергается мысль не только об отъезде из России, но и возможность иного, «нового имени». Такова жизненная позиция Ахматовой. Такова родная земля в её понимании. Её, родную землю:
В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
………………………………
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно – своею.
Любовь к Родине у Ахматовой – это все. Будет Родина – будет жизнь, дети, стихи. Нет ее – ничего нет. А потому свои «военные» стихи Ахматова начинает так, как начинается солдатская служба – с присяги – клятвы:
И та, что сегодня прощаемся с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит,
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться ничто не заставит.
А когда я читаю «Мужество», понимаю, что это уже не личные, это есть настоящая гражданская лирика:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями лечь,
Не горько остаться без крова,-
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
И невольное преклонение испытываешь перед этими мужественными «дамскими» стихами; чувство восхищения оставляет в душе характер ахматовской героини.
И Ахматову, и Цветаеву можно любить по-разному. Но одно их объединяет определенно: они жили в эпоху героической истории нашей страны, они видели события, которым не было равных. Они – голос эпохи. Они и сегодня знакомят нас с богатым духовным миром своей лирической героини, обогащают наш внутренний мир, помогают нам пережить, испытать еще не знакомые состояния любви, ревности, ненависти, отчаяния, предательства.
И самое главное: «женские» стихи А.Ахматовой и М.Цветаевой воспитывают в нас чувства гражданина своей страны, помогают осознать, что Родина для человека «не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью…». Родина – это что судьба, или, по-народному – доля. Доля – судьба Родины и человека – нераздельны.